«ДРУГАЯ ЖИЗНЬ»

В августе исполнилось 100 лет со дня рождения выдающегося русского писателя Ю.Трифонова. Полвека тому назад, когда ортодоксальные советские критики всячески шельмовали писателя за «мелкотемья», за «воспевание мещанского существования», за «рефлексирующих персонажей», я написал о его повести «Другая жизнь» статью, которая была напечатана в журнале «Дружба народов» (1976, №4).
За эту, по его словам, «своевременную» поддержку благодарили меня и сам Трифонов, и К.Симонов, с которым я познакомился во время совместной поездки в Турцию.
Сегодня, когда ряд оголтелых лжепатриотов из Москвы всячески поносят Азербайджан за его самостоятельную политику, за подлинную историю, за богатую культуру, мне захотелось познакомить новые поколения читателей со своей старой статьей, не изменив в ней ни слова. Это и признак моего глубокого уважения к духовным ценностям великой русской литературы. Литературы, в которой оставил свой яркий след столетний Юрий Трифонов.
30 августа 2025 г.
Анар
С печальнейшего события начинается рассказ Ольги Сергеевны о своей жизни, которая казалась ей то счастливой, то грустной, а то и «совсем ужасной».
Какой была эта жизнь?
Счастливые дни начала их любви с Сергеем на берегу Черного моря, потом свадьба, дочь, работа и невзгоды, неурядицы, ссоры, стычки со свекровью, а иногда «вечер в лесу, мы трое на лыжах - счастье».
И вот все закончилось - надежды, неудачи, иссушающие душу ревность, любовь. Сергей умер, утрата невосполнима. И Ольга Сергеевна чувствует неутолимую боль и еще - необъяснимое, смутное чувство вины. Но в чем она, эта вина?
Почему муж ее Сергей Троицкий прожил такую короткую и неспокойную жизнь? Почему он метался, кидался от одного к другому, ничего не доводил до конца, терпел поражения, верил и обманывался, внезапно загорался и так же быстро остывал.
Почему он не мог, как другие, посидеть усердно в архивах месяц, два, три, пять, сколько нужно, вытянуть из гигантской очереди все, что касается московской охранки накануне Февраля, и добросовестно это обработать.
Сергей Троицкий жил неудобной жизнью человека, поступающего вопреки общепринятой благоразумности. Он беспорядочно тратил свою жизнь на какие-то бесцельные
поиски, увлекался нелепейшими фантазиями, приходящими ему в голову, пытался проникнуть в глубь вещей, найти «продолжение нити», проходящей сквозь поколения, обнаружить след внутренней преемственности среди людей.
Не просто собрать и обработать факты в своей диссертации, но извлечь истину, докопаться до сути, найти доказательства того, что человек не исчезает вместе со своим физическим отмиранием, что смерть человеческая - это не химия, после него остается нечто, чему нет названия, но что существует, эманируясь в других людях, в их сознании и чувствах.
Потеряв Сергея и тяжело страдая, Ольга Сергеевна, всегда насмехавшаяся над чувствами мужа, вдруг понимает это.
«Боже мой, если все начинается и заканчивается химией - от чего же боль? Ведь боль - не химия, и их жизнь, померкшая внезапно, как перегоревшая лампа, разве была соединением формул?»
Метания Сергея, кажущиеся легкомыслием и бездумностью, на самом деле глубоко последовательны по своей внутренней динамике, это поиск человека мыслящего глубоко и не допускающего поверхностных обобщений.
И даже его дальнейшее увлечение спиритизмом никак не блажь, не безумие, как считают два самых близких ему человека - мать и жена. Это логическое внутреннее продолжение всей работы его души, жаждущей найти ключ, разгадку тайны человеческого взаимопонимания. Стремление разбить стеклянную оболочку человеческого одиночества, исцелиться пониманием, обрести надсловную связь, ибо слова часто бессильны.
«Парапсихология» - мечтательная попытка проникнуть в другого, отдать себя другому, исцелиться пониманием».
Жизнь и поступки Сергея Троицкого проходят перед нами, отражаясь в кривом зеркале рационализма его жены, Ольги Сергеевны. Это как бы история незаурядного человека, увиденная глазами заурядного человека, честного, преданного, любящего, но не способного подняться над кругом очевидностей, над привычностью общепринятых понятий, не способного допустить мысли о том, что порой Истина начинается там, где заканчивается очевидность.
Ольга Сергеевна не сомневается в правильности избранного ею пути, она в свое время (не проболтавшись, как Сергей, несколько лет в каком-то музее) защитила диссертацию, стала заведующей лабораторией... Если у нее и есть какие-то сомнения и неурядицы в связи с ее работой, то все они носят временный и неопределяющий характер. В главном, в том, что она на своем месте, у нее сомнений нет.
И тут возникает парадокс. Ольга Сергеевна не любит свою работу, или, во всяком случае, она к ней совершенно равнодушна. Для нее это работа, которая длится ровно 8 часов, 5 дней в неделю. Ничто, связанное с ее работой, не лихорадит этого человека.
И вот весь этот духовный вакуум заполняет постоянно терзающая ее душу невыносимая ревность, ревность к прошлому, к настоящему, ревность к действительному и вымышленному, придуманному ею самой, ревность, отнимающая все силы, иссушающая, озлобляющая, унижающая и заставляющая страдать долго и тяжело.
Ольга Сергеевна мечтает о спокойной жизни, без бурь и безумств, она даже готова ничего не требовать от Сергея, ни диссертации, ни курорта, ни телевизора. Как человеку порядочному ей, конечно, отвратительно блистательное восхождение бывшего друга ее мужа Гены Климука. В запрограммированной жизни Гены Климука ни один день, ни один час не были потрачены впустую.
Школа, институт, диссертация и затем должности, должности, все выше и выше, без каких-либо колебаний и душевных волнений: пробиваться, расталкивая всех локтями, переступая через близких, дружбу, порядочность, честность, извлекать из всего пользу для себя, преуспевать, преуспевать... - вот цель.
Однако, даже безусловно понимая духовное превосходство Сергея над Климуком, Ольга Сергеевна считает все-таки Сергея неудачником. Ощущение виновности связано у Ольги Сергеевны, на наш взгляд, с тем, что не сумела она поверить в Сергея до конца, все казалось ей, что он погибает, и она жалела его и жалостью своей еще больше отягощала и без того тяжкое бремя непонимания, которое пронес ее муж сквозь свою короткую жизнь.
Невыносимо трудно Сергею объяснить окружающим его людям, что вовсе не достоин он жалости, что вовсе не погибший он, что просто не нужно ему то, что все от него ждут, нужна ему лишь та внутренняя свобода, тот стержень, который бы «оставался нетронутым, пружинил, но не ломался». Он не хотел меняться в своей сердцевине, и это значило, что хотя он мучился и много терпел неудач, терял веру в себя... «он все же не хотел ломать то, что было внутри, такое стальное, не видимое никому».
Угнетенность Сергея была как бы отражением того, что внушала его жизнь окружающим. Отчаяние его было вызвано не тем или, во всяком случае, не столько тем, что ему не давалась его работа, а тем, что он не мог заставить себя стремиться к тому, к чему, казалось, должен был стремиться - к ее продолжению.
Как шелест травы проходит через всю повесть щемящая тема «другой жизни».
В двух этих словах, ставших и названием повести, заключен глубокий смысл - неоднозначный, емкий образ, который может трактоваться в самом широком спектре. «Другая жизнь» - это жизнь Другого, пусть и самого близкого человека, жизнь, недоступная по своей глубиной сути постороннему взгляду, та самая, про которую русская пословица говорит: «чужая душа - потемки». И первый - наиболее верхний слой этого образа - попытка Ольги Сергеевны пройти по этим самым потемкам с ярким фонарем совершенно ясного и все же от этого не менее унылого рационализма, объяснять все умозрительно, хотя, конечно, в рассудочности ее логических построений замешано немало чисто эмоционального, субъективно-душевного, «бабьего», наконец. В этом и мастерство писателя, что Ольга Сергеевна не схема, а полнокровный и непростой характер. Другая жизнь это и ее собственная, Ольги Сергеевны, душевная биография, по коренной своей сути отличная от душевной биографии ее мужа. И еще другая жизнь - эта та самая иная судьба, которая могла бы быть у Сергея, и не только у Сергея. Это - идея вариантности судьбы, идея альтернативности жизненной ситуации - перед которыми так или иначе поставлены почти все персонажи повести.
Для Ольги Сергеевны мечта о возможности «другой жизни» - это мечта о существовании ясном, определенном, понятном, упорядоченном, радостном, спокойном, застрахованном от всех эмоциональных неожиданностей.
Понятно, что эта ее версия возможной «другой жизни» неразрывно связана с ее мечтаниями о «другой жизни» Сергея, вернее, для Сергея. Ибо она считает, что их жизнь - цельный, живой, пульсирующий организм, со своим сердцем, легкими, органами чувств, и вот одна из слагаемых этой самой единой, третьей жизни, ее вторая составная часть - жизнь Сергея, в идеале, ее идеале, должна быть без несуразностей, нелепостей, безрассудств, бесцельных усилий ума.
У Григория Максимовича, друга Шагала и Модильяни, уничтожившего все свои юношеские работы и теперь заседающего в каких-то комиссиях, выполняющего какие-то заказы, с его «рощицами и прудиками», тоже «другая жизнь» с той лишь разницей, что ту свою, настоящую, о которой мечтается, он уже прожил в начале, в юности, а потом она, покореженная, изломанная, раздавленная, осталась лежать где-то далеко в прошлом, и началась для него тихая, благополучная, спокойная и сытая жизнь.
Для самого же Сергея «другая жизнь» - символ невоплощенного, неосуществленного, неуловимого и вечного, как движение, бесконечного в своей изменчивости. Зыбкость поиска и невозможности находки, тайный зов непознанного, сладкая истома сомнений и негасимое пламя несогласия - вот это и есть другая жизнь Сергея Троицкого.
Из всего этого - разноречивого, нередко путаного, ненужного, несуразного - складывается нечто цельное и ценное: ощущение внутренней свободы, та самая «жажда свободы», о которой азербайджанский прозаик Энвер Мамедханлы сказал, что она «или сжигает людей до тла, или ее вовсе нет».
Да, у Сергея «вкусовое отношение» ко всему. Но в это определение входят точные и незыблемые нравственные критерии, максималистская неуступчивость в главном, основном, нежелание становиться удобным, «каучуковым», невозможность принять, пусть даже вполне благовидную, помощь от того же милейшего Григория Максимовича.
«Какая-то внутренняя несуразность и желание делать только то, что им нравилось, губили этих людей» - свидетельствует Ольга Сергеевна. «Эти люди» - имеется в виду весь род Сергея - от самых дальних предков, беглых крестьян и раскольников, от попа - расстриги, саратовских поселенцев, живущих коммуной, отца Сергея - петербургского студента, жаждавшего перемен и справедливости, - к самому Сергею.
«Тут было что-то, неистребимое ничем, ни рубкой, ни поркой», - отмечает Ольга Сергеевна. - Во всех них клокотало и пенилось несогласие».
И надежда в этой довольно-таки грустной, но трезво-грустной, мужественно-грустной, если можно так выразиться, повести связана, на мой взгляд, именно с этой верой в неистребимость духовной потенции, передающейся через многие поколения Сергею, а от него - его дочери. Ведь, как считает Сергей, «если можно копать все более вглубь и назад, то можно попытаться отыскать нить, уходящую вперед...»
У Ирины, дочери Сергея, также своя «другая жизнь», которую опять-таки по всем меркам внешне разумной и житейски справедливой шкалы не может понять и принять Ольга Сергеевна.
Можно понять справедливое возмущение Ольги Сергеевны, когда дочь прямо-таки кощунственно сопоставляет свои мелкие школьно-девичьи треволнения с подлинным и по-настоящему глубоким горем матери. Причем ведь Ирина не бездушна, она и отца «так любила!» «Странный характер, - рассуждает Ольга Сергеевна и догадывается... «отцовское».
И вновь она теряется перед загадкой «другой жизни», которая, я имею в виду жизнь, уже и есть ответ на эту самую загадку. Другая жизнь - это значит жизнь, существующая по своим собственным, имманентным законам.
Глубокий и далеко не однозначный мир духовных ценностей, душевных сложностей, психологических, интеллектуальных перипетий открывает перед нами Ю.Трифонов своей новой повестью. Тематически продолжая цикл городских повестей писателя по кругу проблем, новая его работа, на мой взгляд, стоит на более высокой художественной ступени, хотя, признаться, некоторое увлечение модной нынче манипуляцией со временем - несколько «сюрреалистический» прием смешения реальности и предположений, яви и сна (особенно в финале) - не всегда органически сочетается с густой и сочной бытописью, столь характерной для Ю.Трифонова и так тесно связанной с традицией русской прозы.
Именно в русле лучших традиций этой большой литературы святого правдоискательства написана в целом повесть, в которой писатель как бы предлагает пристальней всмотреться в человеческую судьбу, переоценить, перепроверить привычные стереотипы, элементарные, потому и неточные, поверхностные представления о счастье и несчастье, о мнимом процветании и подлинном непокое, о кажущейся незыблемости житейской мудрости и о том, что «вдруг сверкнет, как догадка, как слабая заря за стволами, - другая жизнь».
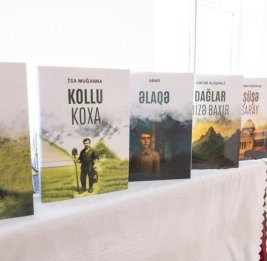
Культура

Культура
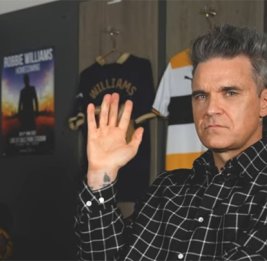
Культура

























